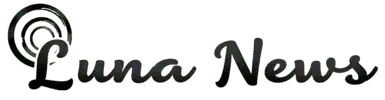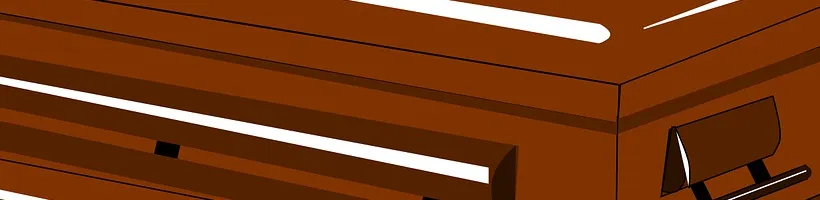Я посмотрела на бумагу. Текст был мелким, юридически запутанным, но суть я уловила сразу. Это была не доверенность. Это был акт дарения. Полного и безоговорочного. Герасим протянул мне дорогую перьевую ручку.
— Ну же, не тяни. У меня дела.
Я взяла ручку. Моя рука, та самая рука, которая подписывала многомиллионные контракты на поставку угля, вдруг начала предательски дрожать. Я сделала вид, что пытаюсь унять тремор, сжимая ручку изо всех сил.
— Я… Я не вижу… — пробормотала я, склоняясь над листом.
— Просто поставь крестик! — рявкнул Герасим, теряя терпение.
Я занесла перо над строкой подписи. И в этот момент моя рука судорожно дернулась. Перо с силой ударило по бумаге, разбрызгивая черные чернила. Клякса расплылась мгновенно, заливая текст жирным, непроницаемым пятном. А потом я, словно в панике пытаясь все исправить, провела рукой по чернилам, размазывая их по всему листу, превращая документ в черную грязь.
— Ох! — выдохнула я испуганно. — Прости, сынок. Руки не слушаются.
Лицо Герасима побагровело. Вены на его шее вздулись.
— Ты! — заорал он, хватая меня за плечи и встряхивая. — Ты знаешь, сколько стоит эта бумага? Ты все испортила!
Пелагея вскочила, опрокинув стул.
— Герасим, оставь ее! Она же не соображает.
Герасим оттолкнул меня обратно на стул. Он тяжело дышал, сжимая кулаки.
— Уберите это! — крикнул он слугам, указывая на испорченный документ. — Я распечатаю новый. Но если ты еще раз дернешься… Я сам буду твоей рукой водить.
Он вылетел из столовой, хлопнув дверью так, что зазвенел хрусталь в серванте. Пелагея побежала за ним, цокая каблуками. Слуги бросились убирать со стола.
Я сидела, опустив голову, изображая раскаяние и страх. Марфа подошла, чтобы забрать испорченный лист.
— Я сама выброшу, — тихо сказала я, выхватывая мокрый от чернил комок бумаги у нее из-под носа. — Я… Я хочу исправить.
Марфа посмотрела на меня с жалостью, но спорить не стала.
Когда столовая опустела, я осторожно разгладила лист на коленях. Чернила подсохли, но текст все еще был читаем под пятнами. Я вчиталась в строчки, которые Герасим так хотел скрыть под видом медицинской формы. Дарственная на недвижимое имущество. Земельный участок, кадастровый номер… Переход права собственности, немедленный и безвозвратный. И в самом низу, мелким шрифтом, приписка, от которой у меня похолодело внутри: «Даритель подтверждает, что действует в здравом уме и твердой памяти, и отказывается от права проживания в указанном объекте недвижимости в течение 24 часов после подписания».
Это был не просто грабеж. Это был приговор. Как только я поставлю подпись, нас с Евлалией выгонят. Законно. Официально. Навсегда.
Я аккуратно свернула лист и спрятала его в глубокий карман своего старого платья. Теперь у меня было доказательство. Но доказательство чего? Его жадности? Этого мало для прокурора. Мне нужно было знать, зачем ему такая спешка. Зачем ему дом именно сейчас, когда я вернулась с деньгами?
Я посмотрела на Евлалию. Она сидела, раскачиваясь из стороны в сторону, и снова шептала: «Третий том… Зеленый корешок… Страница 500».
Библиотека. Ответ был там.
Я ждала, пока шум мотора герасимовского автомобиля стихнет за воротами. Он уехал в город, вероятно, к нотариусу, готовить новые бумаги. Пелагея заперлась в своем будуаре, готовясь к балу. Дом затих, погрузившись в тревожную, выжидательную дремоту.
— Марфа, — тихо позвала я, когда экономка проходила мимо. — Присмотри за Лалой. Головой отвечаешь.
Марфа кивнула; в ее глазах мелькнул страх, смешанный с решимостью. Она увела сестру на кухню, подальше от любопытных глаз. Я же двинулась к библиотеке.
Двери из темного дуба были заперты. Герасим не рисковал, зная, что я любила книги. Я огляделась. Коридор был пуст. Я достала из волос ту самую шпильку, которая уже послужила мне ключом от чулана. Руки помнили движения. В шахтерском поселке старый слесарь, дядя Миша, научил меня вскрывать замки на складах, когда мы теряли ключи в пургу. «Чувствуй металл, Клементина, — говорил он. — Он живой, он хочет открыться, просто нужно вежливо попросить».
Я попросила. Щелчок был едва слышным, как хруст сухой ветки. Дверь подалась. Я скользнула внутрь и прикрыла ее за собой, не запирая.
В библиотеке пахло пылью и старой бумагой. Шторы были задернуты, в комнате царил полумрак. Я включила настольную лампу на массивном столе. Луч света выхватил из темноты ряды книжных шкафов, уходящих под потолок.
«Вторую полку снизу… Третий том… Зеленый корешок».
Я подошла к нужному стеллажу. Это была секция с классикой. Третий том. Зеленый переплет. Достоевский. «Преступление и наказание». Какая ирония.
Я вытащила книгу. Она была легкой, слишком легкой для такого толстого тома. Я открыла ее. Страницы были вырезаны, образуя тайник. Внутри лежал не слиток золота, не пачка денег, а простая школьная тетрадь в клеенчатой обложке.
Я села на пол, прислонившись к шкафу, и открыла тетрадь. Это был дневник Евлалии. Почерк вначале был ровным, каллиграфическим — тем самым, которому нас учила гувернантка.
«15 марта. Герасим продал мамин сервиз. Сказал, что случайно разбил, но я видела квитанцию из ломбарда. Я пыталась написать Клементине, но он вырвал письмо из рук. Сказал, что мама занята важными делами и не нужно ее волновать пустяками».
Я листала страницы, и с каждой новой датой почерк становился все более рваным, буквы плясали.
«10 сентября. Доктор Зосим приходил сегодня. Сделал укол. Сказал — витамины. Но после него я спала два дня. Проснулась, а из гостиной пропала картина Айвазовского. Герасим говорит, что я ее подарила кому-то. Я не помню. Мне страшно».
«2 декабря. Они дают мне новые лекарства. Я забываю слова. Я забываю, как зовут кошку. Клементина, где ты? Почему ты не едешь? Герасим говорит, что ты умерла. Но я знаю, что это ложь. Я чувствую тебя»…