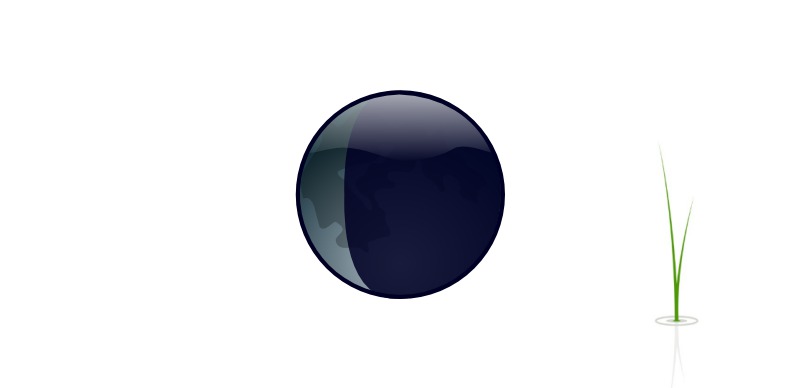Я сделала это. Я сказала это. Камень, который я носила в груди столько лет, дал трещину, и сквозь нее тонкой струйкой начала просачиваться свобода. Праздник для них был кончен. А для меня… для меня он только начинался. Я не знаю, сколько я просидела в тишине своей комнаты. За дверью бушевала буря. Сначала были крики, затем уговоры. Роман стучал в мою дверь, его голос сменился с возмущенного на умоляющий: — Мам, ну открой! Давай поговорим. Ты же не всерьез. Мам, ну что ты делаешь?
Я не отвечала. Я просто сидела на кровати и слушала, как рушится их привычный мир. Гости разъехались быстро, почти по-английски. Никто не хотел оставаться свидетелем семейной драмы. Праздник, который так шумно начинался, закончился позорным бегством. Вскоре я услышала, как они начали собирать вещи. Не те, что на две недели, а все. Звуки были злыми, торопливыми. Хлопали дверцы шкафов, что-то с грохотом падало.
Я слышала обрывки их перепалки. Марина шипела на Романа: — Это ты виноват! Со своей идиотской шваброй. Дошутился? Теперь будем жить на одну твою зарплату. А он огрызался в ответ: — А ты? Кто идею подал? Сама же говорила, что ее надо «на место поставить». Их спор не вызывал во мне ничего, кроме брезгливой усталости. Я сидела в своей тихой комнате и слушала, как они пакуют свою суету, свою жадность, свое неуважение.
Через пару часов дом затих. Хлопнула входная дверь. Заскрипел под колесами снег. Они уехали. Я вышла из своей комнаты. В большом зале царил хаос. Недоеденная еда на столе, грязные тарелки, брошенные салфетки. На полу валялась мишура. И в углу, как памятник их глупости, стояла та самая синяя швабра. Я посмотрела на нее. И впервые за вечер на моих губах появилась настоящая, живая улыбка.
Я не стала ничего убирать. Я просто прошла на кухню, заварила себе крепкого чая с чабрецом и села у окна. За окном светало. Начинался первый день Нового года. Моего Нового года. Следующие дни были наполнены тишиной. Той самой, моей, будничной. Но теперь она была другой. Она была не просто отсутствием шума. Она была наполнена смыслом. Это была тишина свободы. Я знала, что их жизнь без моих сорока тысяч и без бесплатной дачи трещит по швам. Мне было все равно. Я отрезала эту опухоль. Больно, без анестезии, но я ее отрезала…