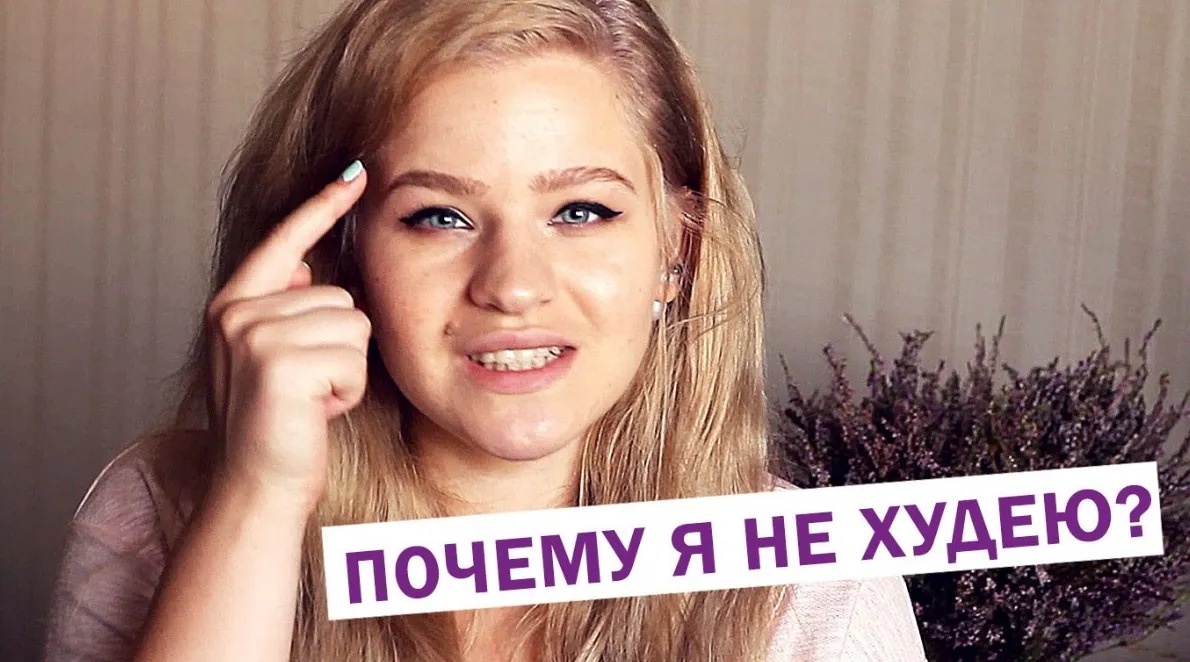Девочка раскрыла ладонь. На ней лежала брошь: старинная, с потемневшим серебром и выцветшей эмалью. Синяя незабудка с капелькой росы из крошечного бриллианта.
Андрей похолодел. Он узнал бы эту брошь из тысячи. Из миллиона. Даже во сне. Даже через тридцать пять лет.
Последний раз он видел ее на платье матери. В тот самый день, когда пришел попрощаться. Когда она лежала в гробу, а на ее груди синела эта самая незабудка — единственное украшение, которое отец разрешил оставить.
— Это пойдет с ней, — сказал тогда Петр Сычев. И в его голосе было что-то страшное. — Пусть там помнит.
Брошь похоронили вместе с матерью. Тридцать пять лет назад.
Андрей медленно поднял глаза на девочку, и у него подкосились ноги. Эти глаза. Серые, с зеленоватым ободком. Чуть раскосые. Разлет бровей. Упрямый подбородок.
Он смотрел на свое детство. На свою мать. На семейную черту, которую невозможно подделать.
— Как тебя зовут? — голос не слушался.
— Катя.
— Катя… — он запнулся. — А бабушку?
Девочка насупилась:
— Вы будете покупать или нет? Мне некогда, бабушке плохо совсем.
— Откуда у тебя эта брошь?
— Бабушкина. Она сказала продать. Сказала, это единственное, что осталось. — Девочка всхлипнула. — Нам деньги нужны на лекарства. А врачи без денег не приходят. А соседка говорит, что бабушка может не дожить до утра.
Андрей достал бумажник. Руки дрожали.
— Сколько ты хочешь за брошь?
— Сто… — Девочка запнулась. — Нет, тысячу. Соседка сказала, она старинная, дорогая.
Андрей вытащил все, что было — несколько крупных купюр.
— Вот, держи. И скажи мне, где живет твоя бабушка?
Катя недоверчиво посмотрела на деньги, потом на него.
— Зачем вам?
— Хочу помочь.
— Все так говорят, — в детском голосе звучала недетская горечь. — А потом не помогают.
— Я — не все.
Что-то в его тоне заставило девочку поверить. Она спрятала деньги за пазуху и кивнула:
— Пойдемте. Только быстро.
Они шли через дворы, мимо обшарпанных пятиэтажек, мимо ржавых качелей и покосившихся лавочек. Район был из тех, что стыдливо называют неблагополучными. Андрей много лет назад поклялся никогда больше не возвращаться в такие места. И вот — вернулся.
— Давно болеет бабушка? — спросил он.
— Долго. Раньше работала, а потом… — Катя махнула рукой. — У нее сердце плохое. И голова иногда путается. Вчера назвала меня чужим именем. Надей назвала.
Андрей споткнулся. Надежда. Так звали его мать.
— Мы с ней одни живем, — продолжала девочка. — Мама давно умерла. Я ее не помню. А папы у меня никогда не было.
— Как же вы справляетесь?
— Бабушка пенсию получает. Ну и шьет иногда. Шила. Теперь руки не слушаются.
Они остановились у подъезда с выбитыми стеклами. Катя толкнула дверь.
— На пятый этаж. Лифт не работает.
Пахло сыростью и старостью. Ступени скрипели под ногами. На площадке третьего этажа горела одинокая лампочка. У двери с номером 47 Катя остановилась и достала ключ на веревочке, висевший под курткой.
— Подождите, я сначала посмотрю.
Она юркнула внутрь. Андрей стоял на площадке, сжимая в кулаке брошь. Сердце колотилось так, будто он пробежал марафон. Это невозможно. Мать умерла. Он сам видел ее в гробу. Сам бросал горсть земли на крышку. Но брошь…
— Можете войти, — Катя выглянула из двери. — Бабушка спит. Только тихо.
Квартира была крошечной: комната, кухня, совмещенный санузел. Бедность не прятали, потому что прятать было некуда. Но везде чистота и порядок. На подоконнике — герань в горшке. На стене — старая фотография в рамке.
Андрей подошел ближе и замер. С фотографии смотрела молодая женщина с грустной улыбкой. Рядом с ней он сам, лет семнадцати, с нелепым чубом и гордым взглядом. Это было единственное фото, где они были вместе с матерью. Его сделал сосед за неделю до того, как…
— Это бабушка молодая, — сказала Катя, проследив его взгляд. — Красивая, правда? А мальчик рядом… она никогда не говорит, кто это. Только смотрит и плачет.
У Андрея перехватило дыхание.
— Где бабушка?