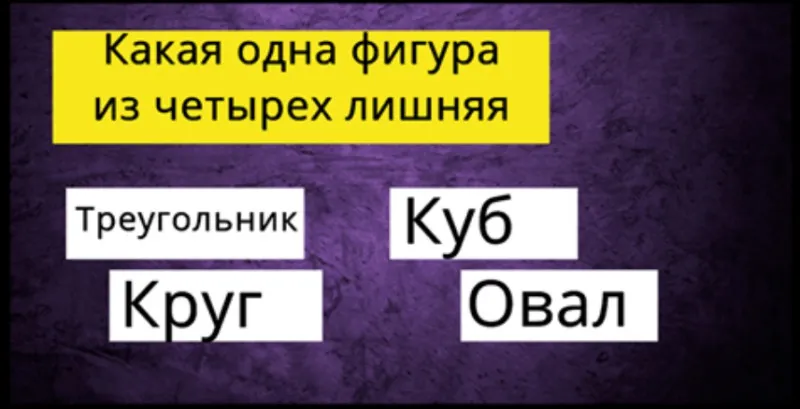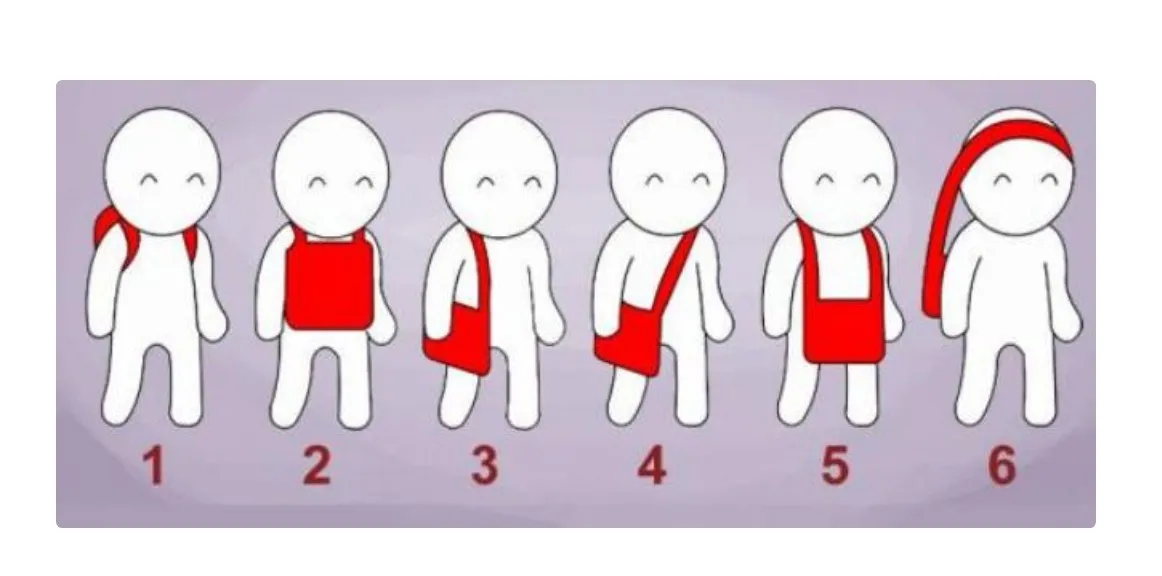Он помолчал секунду и добавил:
— По нынешней практике за такое дают от 10 до 15 лет, иногда и больше, если суд учтет все подряд. Пособникам поменьше — лет 5–8.
Я сглотнула.
— А мой… — язык не повернулся сказать «сын», — Максим?
— Он участвовал во всех обсуждениях, — спокойно ответил следователь. — Сам предлагал схему с праздником, сам был готов играть роль шокированного сына. Это видно из переписки и из ваших записей. Так что говорить, что он ничего не знал или его заставили, не получится.
Он чуть наклонился вперед:
— Я понимаю, что вам тяжело слышать. Но с точки зрения закона он такой же участник преступления, как и она.
— Я это понимаю, — сказала я. — И все равно хочу, чтобы он понес наказание. Я не хочу, чтобы это все замяли.
Кузнецов кивнул серьезно:
— Не замнут. Тут уже и пресса заинтересовалась, и прокуратура подключилась. Дело резонансное.
Он закрыл блокнот.
— На этом пока все. В ближайшее время будут еще следственные действия, возможно, очные ставки, но основной ваш рассказ я зафиксировал. Если вспомните еще какие-то детали, звоните через адвоката или напрямую.
Мы уже собирались выходить, как я вдруг спросила:
— Скажите, а что с тем первым мужем Валерии? Тем, который упал со стремянки.
Кузнецов посмотрел на Орлова, тот чуть кивнул — мол, рассказывайте.
— По материалам, которые передал ваш адвокат и частный детектив, — ответил следователь, — в области действительно подняли старое дело. Прокуратура уже подала ходатайство о вскрытии могилы и повторной экспертизе.
Он помолчал и пояснил:
— Сейчас методы другие. Даже спустя годы некоторые яды оставляют следы в костях, волосах, в остатках тканей — особенно если речь про мышьяк или похожее соединение. Там как раз были странные внутренние кровоизлияния, которые в свое время списали на падение. Теперь смотрят заново.
— И если подтвердится, что она его травила? — спросила я.
— Тогда ей добавят еще одну статью, уже за убийство, — сказал он. — Там сроки другие. До 20 лет, а то и больше. В сумме может выйти очень много.
Он чуть вздохнул.
— Это уже, конечно, их история. Но без того ужина у вас дома, без вашей решимости сюда дойти никто бы туда больше не полез.
Мы вышли из кабинета. В коридоре я прислонилась к стене, ощущая, как ноги стали ватными.
— Все, Люда, — тихо сказал Роберт. — Мы сделали, что должны. Дальше — их работа.
Но во мне все еще крутился один вопрос, который я боялась даже сформулировать.
— Андрей Николаевич, — повернулась я к Орлову, — я могу увидеть Максима?
Он посмотрел внимательно.
— Во время официального допроса — нет, это запрещено. Но как потерпевшая вы имеете право заявить, что хотите с ним поговорить в присутствии адвокатов и под запись. Если это вам нужно, я организую.
— Мне это нужно, — сказала я. — Не знаю, выдержу или нет, но нужно.
Роберт напрягся.
— Люда, ты уверена? Может, не надо? Тебе и так…
— Надо, — перебила я. — Я хочу услышать, что он скажет. Не через бумаги, не через протоколы. Лично. И сказать ему то, что должна сказать.
Андрей Николаевич кивнул.
— Хорошо, я поговорю со следователем и с его адвокатом. Думаю, сегодня к двум часам дня нам могут выделить комнату. Вы пока поезжайте домой, поешьте хоть что-то, попытайтесь чуть отдохнуть. Я вам позвоню.
Дома Роберт сварил макароны по-простому, с тушенкой. Я пыталась съесть хоть пару ложек, но все застревало в горле.
— Я поеду с тобой, — сказал он. — В коридоре посижу, но рядом буду.
— Хорошо, — согласилась я. — Одна я точно не выдержу.
Часам к половине второго мы снова вошли в то же здание. Только теперь нас провели не в кабинет следователя, а дальше по коридору, к небольшой комнате с металлическим столом, болтами прикрученным к полу, и такими же металлическими стульями. В углу камера под потолком, красный огонек. У двери — дежурный. Андрей Николаевич уже ждал нас внутри.
— Все будет записываться, — напомнил он. — И видео, и звук. С вашей стороны это хорошо: если он вдруг начнет давить, шантажировать, угрожать — это тоже пойдет в дело. Но если станет тяжело, вы можете в любой момент сказать, что разговор прекращен.
Я кивнула. Пальцы сводило, пришлось переплести руки, чтобы не было видно, как они дрожат.
Дверь открылась. Вошел конвойный, а за ним — Максим. Я знала, что за эти сутки он уже успел побывать и на обыске, и на допросе. Но все равно была не готова к тому, как он выглядит. За одну ночь он будто постарел на 10 лет: осунувшееся лицо, под глазами темные круги, щетина, растрепанные волосы. На нем была простая серая тюремная роба, руки скованы наручниками.
Он увидел меня и весь рухнул. Его прямо физически скосило к стулу.
— Мама! — сорвался у него голос, и он тут же заплакал, не стесняясь ни конвойного, ни адвокатов, ни камеры. — Мам, мамочка…
Я молча смотрела. Во мне все боролось: картинка маленького мальчика, который вцеплялся в меня в детском саду, и взрослого мужика, который хладнокровно обсуждал дозы яда. Он сел, вытер лицо плечом, попытался хоть немного собраться.
— Я… я не знаю, с чего начать, — пробормотал он. — Я виноват. Я знаю. Но я…
— Сразу скажу, Максим, — тихо перебила я. — Любые «но» уже ничего не меняют. Ты пытался организовать мое убийство. Все остальное — детали…